И не пытайтесь! Древняя мудрость, современная наука и искусство спонтанности - Эдвард Слингерленд (2014)
-
Год:2014
-
Название:И не пытайтесь! Древняя мудрость, современная наука и искусство спонтанности
-
Автор:
-
Жанр:
-
Серия:
-
Язык:Русский
-
Перевел:Мария Солнцева
-
Издательство:Corpus (АСТ)
-
Страниц:111
-
ISBN:978-5-17-086844-5
-
Рейтинг:
-
Ваша оценка:
И не пытайтесь! Древняя мудрость, современная наука и искусство спонтанности - Эдвард Слингерленд читать онлайн бесплатно полную версию книги
С точки зрения Лао-цзы, от у-вэй нас уводят, во-первых, негативный эффект, который размышления и вербализация оказывают на нашу способность жить, а во-вторых, непрерывный рост наших желаний (они после временного удовлетворения появляются вновь из-за более привлекательного миража). Лао-цзы говорит:
Нет худшего несчастья, чем незнание того, что для тебя является достаточным; нет тяжелее бедствия, чем страсть к приобретению. Когда же ведают о том, что то, чего достаточно, является достаточным, находятся в незыблемом достатке.
Осознание того, что “то, чего достаточно, является достаточным”, требует сопротивления сладкоголосым сиренам консьюмеризма и ограничения себя очень простыми удовольствиями. С современной точки зрения об этом фрагменте можно многое сказать. Желаниям наших “очей” обязана своим существованием индустрия рекламы, превратившая их подстегивание в точную науку. В ту минуту, когда на прилавке появляется новый “айфон”, наш прежний “айфон” начинает казаться менее привлекательным, а модное парижское поветрие делает никому не нужными целые контейнеры отличной одежды. Генри Дэвид Торо жаловался{106}: “Главная обезьяна в Париже напяливает новую шляпу, и все обезьяны в Америке делают то же самое”. (То была одна из многих черт цивилизованной жизни, которые увели его к Уолденскому пруду.) Темной стороной искажающего эффекта искусственных социальных норм можно считать и нездоровые пропорции тела, доминирующие в модельном бизнесе, где семнадцатилетних анорексичек выставляют идеалом женской красоты. Мужчины привыкают к тому, что именно это они должны считать красивым, и многие женщины вредят себе, пытаясь соответствовать навязанному рекламой стандарту. Лао-цзы увидел бы здесь идеальный пример извращенных культурных норм, уничтожающих природные пристрастия.
Лао-цзы был во многом прав, но не стоит слишком быстро переходить к обвинениям конфуцианства и Мэдисон-авеню во всеобщем беспокойстве и неудовлетворенности. Постоянная перемена пристрастий и болезненное желание обладания – не столько плоды усилий злокозненных маркетологов и необузданного капитализма. Скорее они отражают фундаментальную черту человеческой психологии. Мы устроены так, что совершенного счастья или удовлетворения невозможно достичь – по крайней мере, обычными путями. В классической работе 1971 года Брикмен и Кэмпбелл представили теорию гедонистической адаптации{107}, или гедонистической беговой дорожки, согласно которой положительные и отрицательные события лишь на время повышают уровень удовлетворенности (неудовлетворенности). Брикмен и Кэмпбелл заявили, что знают теперь, почему люди, которые выигрывают крупные суммы в лотерею или (это другая крайность) оказываются парализованными в результате несчастного случая, поначалу испытывают сильную радость или отчаяние, но вскоре возвращаются к обычному уровню удовлетворенности. Дальнейшие исследования подтвердили, что влияние на удовлетворенность обстоятельств, которые интуитивно воспринимаются как радикальные и неизменяемые (травма позвоночника, брак, смерть супруга), удивительно быстро проходит.
Базовым механизмом здесь, скорее всего, выступает адаптация – явление, хорошо известное исследователям восприятия: после восприятия чего-либо в течение определенного времени сенсорная система организма “приспосабливается” к этому обстоятельству. Сенсорная адаптация очень важна: органы чувств не перегружаются тысячами бомбардирующих нас раздражителей. Это позволяет новому стимулу выделяться на привычном фоне и предупреждает нас об изменении обстановки. Исследователи гедонистической адаптации предполагают, что точно так же, как мы привыкаем к шуму большого города, перемены к лучшему и худшему регистрируются – и отходят на второй план.
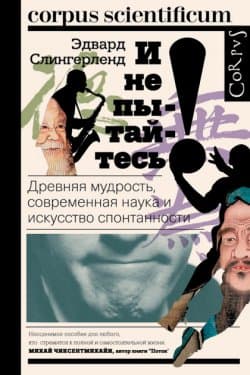
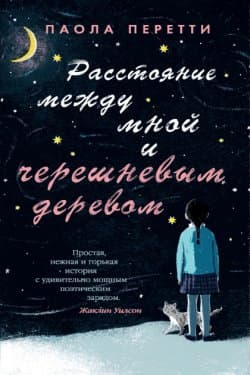 Расстояние между мной и черешневым деревом
Расстояние между мной и черешневым деревом 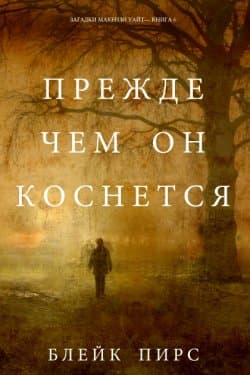 Прежде Чем Он Коснётся
Прежде Чем Он Коснётся  Синон
Синон 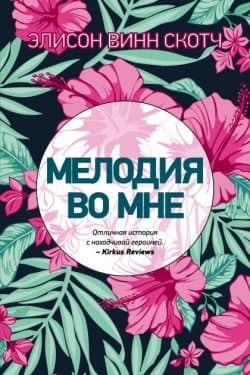 Мелодия во мне
Мелодия во мне  Подземка
Подземка 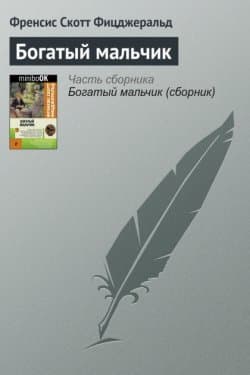 Богатый мальчик
Богатый мальчик  Наследник
Наследник  Пир теней
Пир теней  Князь во все времена
Князь во все времена  Когда порвется нить
Когда порвется нить 



