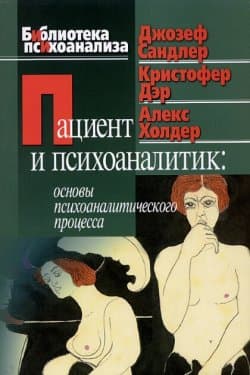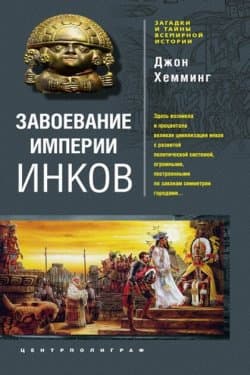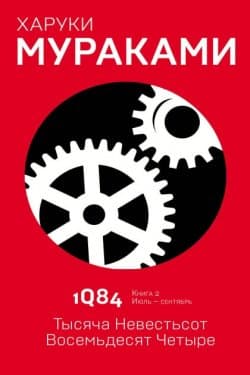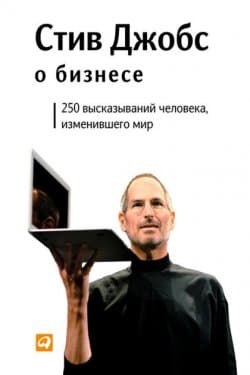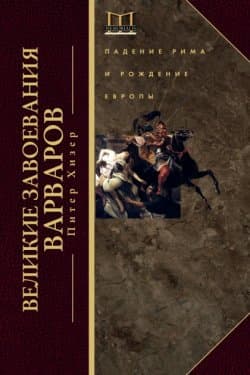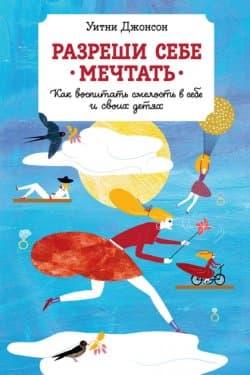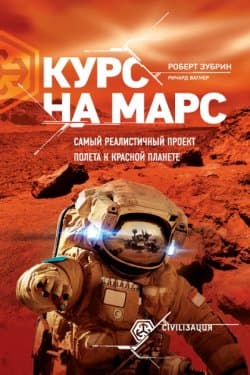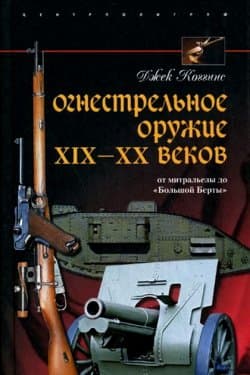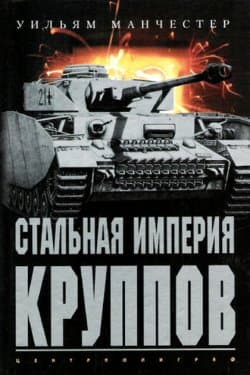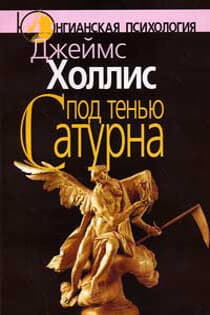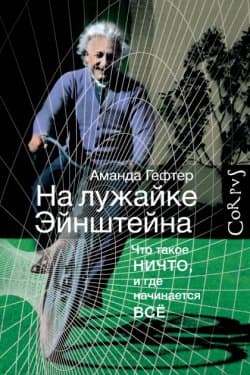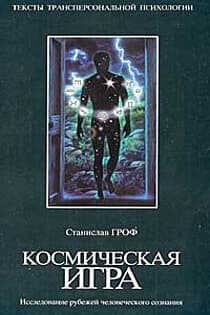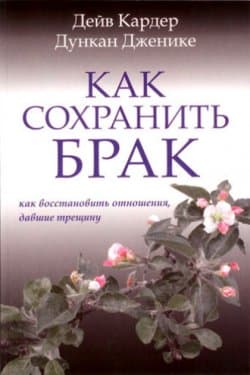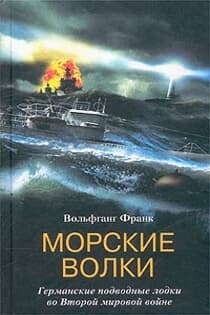Софокл и его трагедийное творчество. Научно-популярные статьи - Ф. Ф. Зелинский
-
Название:Софокл и его трагедийное творчество. Научно-популярные статьи
-
Автор:
-
Жанр:
-
Серия:
-
Язык:Русский
-
Издательство:Алетейя
-
Страниц:64
-
ISBN:978-5-906910-33-2
-
Рейтинг:
-
Ваша оценка:
Софокл и его трагедийное творчество. Научно-популярные статьи - Ф. Ф. Зелинский читать онлайн бесплатно полную версию книги
Это не значит, чтобы у Эсхила не бывало совсем изменений в настроении; они изредка встречаются, но только в виде крутых переломов.
– Прими нас в свой город, – говорят Данаиды царю.
– Не могу: за граждан страшно.
– Тогда мы повесимся на кумирах твоих богов.
– Это было бы неизгладимой скверной; пойду совещаться с общиной.
То же самое в последней сцене «Евменид». Оскорбленный хор мечет угрозы против Афин; все ласковые речи богини-покровительницы с обещанием культа тщетны. И вдруг, неожиданно для нас, примирительный вопрос: «Владычица Афина, какую обитель обещаешь ты нам?» – и вражде конец.
В противоположность к этой строгой, архаической, хотя и внушительной в своей величавой неподвижности технике Софокл должен считаться творцом психологической постепенности в переходах, – конечно, там, где она уместна. Возьмем для пояснения из самой ранней для нас трагедии, из «Антигоны», сцену Креонта с Гемоном. Последний приходит почтительным сыном, уходит мятежным и отчаявшимся; стоит обратить внимание на постепенность, с которой совершается этот переворот. Он начинается уже во время его агонистической речи, будучи вызван, очевидно, выражением несговорчивости и негодования в игре сурового отца: вначале трогательное выражение преданности, но во второй половине уже слышатся нотки ласкового предостережения; затем, ввиду упорства отца, более настойчивые убеждения; затем, когда спор переходит на политическую почву, не лишенные резкости возражения; затем, при троекратном повторении укоризны в «угождении женщине», – всё более и более горячие ответы и, наконец, после решительной угрозы, – взрыв отчаяния. То же можно проследить в сцене Креонта с Тиресием: старый пророк настроен добродушно, лишь мало-помалу царь повторением своего оскорбительного обвинения в продажности выводит его из себя. То же в «Царе Эдипе» – в сцене героя с Креонтом во втором действии и во многих других местах.
В другом роде, но не менее художественна и благодарна постепенность в сцене признания Ореста и Электры – особенно если сравнить ее с параллельной сценой в «Хоэфорах» Эсхила; здесь постепенность даже двойная. Вернувшийся брат не начинает с прямого заявления: «Я – Орест», как у старшего поэта; он ведь не с тем пришел, чтобы открыться сестре: это намерение, или, вернее, эта психологическая необходимость возникает для него на наших глазах, во время трогательного плача Электры; и здесь, значит, мы должны представить себе живую немую игру брата в продолжение всей непрерывной речи сестры. Затем он старается внушить ей доверие к себе – или, вернее, это делает, бессознательно для него самого, все сильнее и сильнее пробивающийся поток его чувств. Затем зароняется подозрение, что он в родстве с ней, – что он имеет сообщить ей важную тайну, – что урна не содержит праха Ореста.
– Так где же его могила?
– Живым ее не сыплют.
– Так он жив?
– Если жив я сам.
– Так это ты? – И здесь только признание завершено.
Но я оговорился выше: постепенность соблюдена там, где она уместна. Иногда интересы драматизма требуют, чтобы мы не видели медленного собирания грозовых туч, чтобы гром грянул сразу из безоблачного неба, – и поэт это прекрасно понимает. Возьмем ту же «Электру» с ее двумя преступниками, Клитемнестрой и Эгисфом. Внезапно раздается слово обманчивой радости: «Орест погиб»; внезапно царица в мнимом вестнике из Фокиды узнает сына-мстителя; внезапно Эгисф в мнимом трупе врага обнаруживает убитую жену. Достигши полного умения изображать постепенность психологических переходов, Софокл одновременно достиг и того, что еще выше, – умения не пользоваться своим умением, где этого не велит интерес драматизма; и в этом отношении он остался поэтом-художником.
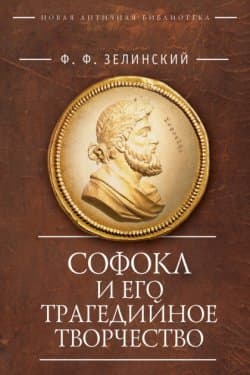
 Статьи об Илье Кабакове
Статьи об Илье Кабакове 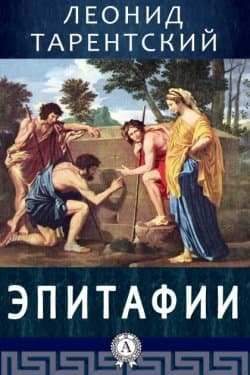 Эпитафии
Эпитафии 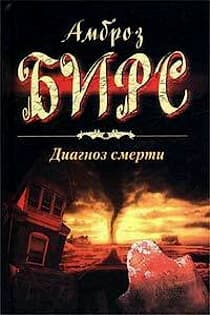 Диагноз смерти (сборник)
Диагноз смерти (сборник) 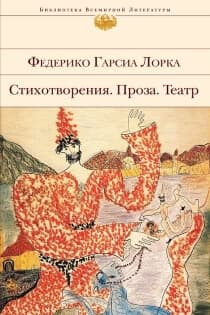 Стихотворения, Проза, Театр (сборник)
Стихотворения, Проза, Театр (сборник) 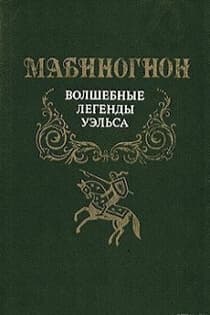 Мабиногион
Мабиногион 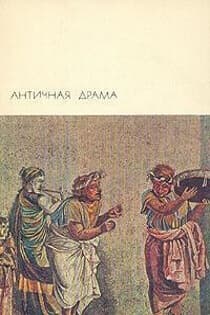 Античная драма
Античная драма  Мужчина и женщина
Мужчина и женщина  The One. Единственный
The One. Единственный  Щипач
Щипач  Куплю тебя. Дорого
Куплю тебя. Дорого